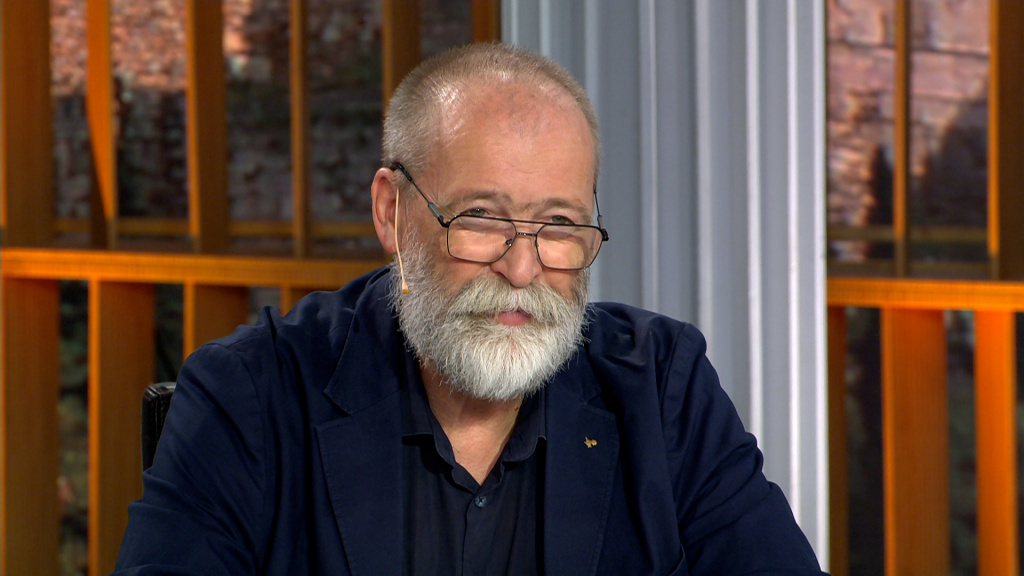
- Дмитрий Кириллович, вы сегодня судили заключительный агон первой четвертьфинальной встречи. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от ребят и атмосферы.
- Сначала атмосфера. Атмосфера очень понравилась. Я первый раз у вас в программе, хотя смотрю ее почти каждый раз, с очень большим интересом. Мне это нравится. Впечатление от детей, если честно, слабоватое. Какие-то они были сегодня зажатые, что ли, не пойму. Часто бывает так, что чтобы выйти в эфир, дети очень активно говорят и говорят хорошо. Сегодня они говорили похуже.
Но с другой стороны, есть вещи, которые они уверенно произносят. Я небольшой специалист в истории пушкинского творчества, но все-таки что-то читал. Есть вещи, которых я не знал из того, что они говорили. Но мне понравилось, это здорово. Это интересная программа, интересная обстановка и, в общем, ребята, которые сидят в зале, производят впечатление все-таки довольно умных детей.
- Дмитрий Кириллович, заметили интересную тенденцию: сейчас дети подходят к Юрию Павловичу за темой к конкурсу красноречия не с тетрадями, а телефонами. Что можете сказать по этому поводу? Мешают все-таки гаджеты обучению или помогают?
- Однозначно ответа здесь нет. Телефоны полезны как средства доступа в интернет, то есть как механизм, позволяющий быстро найти нужную информацию. В этом смысле они очень полезны. И катастрофически вредны в тех случаях, когда телефон используется как записной книжкой. Записная книжка должна выглядеть вот так (достает из кармана пиджака собственную). Это должна быть бумага. Если вы на бумажке что-то пишете, вы запоминаете то, что вы записали. Если вы это делаете на клавиатуре, это не сработает.
Есть очень хорошо поставленные, проведенные достоверные исследования с достоверными результатами, которые показывают, что то, что записано при помощи клавиатуры, запоминается хуже, чем то, что записано руками.
Не так давно, по-моему, года два или три назад в одном из испанских университетов был проведён эксперимент, когда студентам предлагали запомнить текст, сравнительно небольшой, там две странички было всего. Группа была разбита на две части: одна часть группы читала текст с экрана, вторая часть группы читала текст на бумаге. И после этого были проведены контрольные замеры, контрольные вопросы. Люди, которые читали на бумаге запомнили текст лучше.
Есть понятное совершенно объяснение, почему это происходит. Текст на бумаге стабилен. Текст на экране мигает. Наш мозг не любит запоминать то, что мигает. Но это вот совсем просто. Поэтому я своим студентам рекомендую всегда читать на бумаге. Я не запрещаю читать с компьютера, но читать на бумаге лучше, лучше запоминаешь. А писать от руки – это единственный способ запомнить все правильно, потому что важно через мозг пропускать информацию. Поэтому телефон, да, как поисковик – очень здорово, очень хорошо, я сам пользуюсь постоянно. Как и все. Это важно.
- Спасибо. Вы сами все-таки физик или лирик?
- Не знаю. Не знаю… А я знаю ответ! Я одинаково пишу правой, и левой рукой.
- Поняла-поняла.
Некоторые журналисты утверждают, что в эту профессию нужно приходить, имея за спиной какой-то опыт, знания в иной сфере. Приходить в журналистику сразу после школы – менее эффективно. Вы разделяете это мнение?
- Я пришел в журналистику в очень зрелом возрасте, поработав перед этим по основной своей специальности долго и, в общем, на мой взгляд успешно и самое главное очень интересно! И потом окунулся в журналистику волею судеб – просто так получилось. Оказалось, что журналистика – это страшно интересно!
У меня техническое образование, которое я получил до того, как окунулся в эту деятельность. Я не называю себя журналистом, я себя до сих пор журналистом не ощущаю. Но занимаюсь этим делом. Вот ни образование, ни опыт работы мне не помешали ни разу. Я думаю, что жизненный опыт, он может быть связан с образованием, может быть связан с какими-то другими факторами. Он чрезвычайно важен.
Прийти из школы, получить журналистское образование, идти работать журналистом. Можно – ни вопрос. Репортером, редактором, рерайтером. А вот стать серьезным журналистом высокого класса, мне кажется, очень сложно без жизненного опыта.
Есть журналисты, которые получили только журналистское образование и стали в конечном итоге очень хорошими профессионалами. Например, таких сколько хотите. Юрий Павлович, Никита Всеволодович Шевцов, Ярослав Львович Скворцов. Вот все люди взрослые, которые стали хорошими журналистами, у них очень богатые жизненный опыт, не всегда связанный с журналистикой.
Вот мое техническое образование и опыт технической работы еще раз, повторю, мне совершенно не мешает. Мне кажется, что это правильно. Теперь я, наконец-то, наберусь смелости и отвечу на ваш вопрос: да, лучше сначала получить специальный вопрос.
- А как Вы все-таки оказались в журналистике?
- Работа, которой я занимался, связана была с большими сложностями, в том числе и с тем, что работы этого направления у нас в стране и не только у нас, в стране прекратились. Я остался без работы. Я остался без работы, а у меня была семья, мне нужно было ее кормить. Но у меня, слава Богу, техническое образование, поэтому руки были на месте. Я работал сварщиком, я работал монтажником, я работал инженером в команде, я занимался автомобильным спортом. Но плюс к этому я еще потихоньку продолжал вот какие-то работы, которыми мы занимались до развала Советского Союза.
Потом совершенно случайным образом я познакомился с человеком, который был заместителем ответственного секретаря в газете "Известия". Он меня попросил написать текст. Там прокомментировать какое-то событие, я его прокомментировал. Один раз, второй раз, потом он мне как-то говорит: "Хочешь ко мне прийти работать?" В середине 90-х годов простому инженеру прийти в "Известия" – это было что-то!
Я, по-честному, скажу, я испугался. Я боюсь на этом свете только зубных врачей. А здесь я испугался. И я думаю: ""Известия"! Это где-то в небесах, совершенно непонятно, где и непонятно, как это происходит". Но я тогда работал тренером в одной спортивной команде и зимой занимался тем, что на открытом бульдозере чистил снежные трассы. Когда я жене сказал, что меня зовет Витя Толстов в "Известия", и я не знаю, как быть, она меня посмотрела и сказала: «Знаешь, я знал, что ты дурак, что ты такой степени!..» (смеется) «В смысле?», сказал я. Она говорит: «Ты будешь работать в помещении. Там тепло».
И я пошел работать в помещении, там было действительно тепло и оказалось дико интересно! То есть, я в какой-то степени был готов к смене специальности, потому что так сложилось. А это оказалось очень интересно! И коллектив подобрался совершенно феноменальной! Редакторы очень хорошие, очень доброжелательные, очень хороший коллектив внутри редакции. И мне понравилось! Я потихонечку, потихонечку, потихонечку начал втягиваться, а потом вот так и зацепился.
Потом я оказался в журнале «Наука и жизнь». Я туда писал до этого немножко. И вот результат.
- Отличный результат, надо признать!
А на факультет Международной журналистики преподавателем как попали?
- Это тоже отдельная история. В журнале «Наука и Жизнь» одним из членов редакционного совета был выдающийся, абсолютно выдающийся человек Владимир Степанович Губарев. Он был научным журналистом. Его основными темами были космос и атомные проекты. Все вокруг этих проектов. И мы как-то с ним сдружились очень. Довольно много ездили вместе в командировки. В МГИМО же давно уже, сильно больше 10 лет назад, был на пике интерес к научной журналистике. «Наукой и жизнью» и был организован поток, который назвался «Высшая школа научной журналистики». Такой вот поток для магистрантов. И Губарева туда позвали преподавать. Ну, а кого было позвать? Потому что он был абсолютный мэтр. Вот выше просто не было. И он мне как-то, в редакции мы сидели, говорит: «А ты не хочешь там почитать ребятам историю техники?». А я этим увлекался и занимался, и еще когда работал в машиностроительном институте. Я думаю, почему бы не почитать? Вот, и почитал. Ну, коготок увяз.
- Сейчас закончился четвертьфинал – еще немного и ребятам необходимо будет выбирать факультеты для обучения. Каких студентов Вы ждете у себя на факультете журналистики?
- Начитанных. Одним словом, «начитанных». Они должны хорошо ориентироваться в литературе, но не в том смысле, что знаете, кто что написал. Они должны любить читать, и они должны, на взгляд, хорошую литературу от плохой отличать сразу. И это первое.
Второе, они не должны материться. Мне все мои знакомые говорят: «Ты ретроград!». Они должны использовать слова, которые не требуют междометий с матерными корнями. Они должны уметь это делать.
Третье, они должны быть очень любознательными. А дальше все получится.
И, они, конечно, должны уметь учить языки, в отличие от меня, например, потому что у меня с языками плохо. К сожалению, у меня не получается. Вокруг меня вся моя родня говорит на несметном каком-то количестве языков. Жена, например, преподает английский язык. Дочь говорит на итальянском, французском, немецком и английском.
Брат говорит на всех европейских языках. У меня так не получается. Каждому свое...